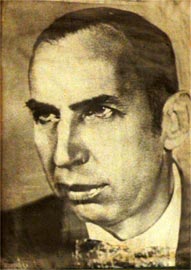СТЕЗЯ
НЕУБИТЫЕ ЛЮДИ
В 1701 году в русском плену оказался капитан шведской армии Юстус фон Мензенкампф. Спустя какое-то время сей рыцарь поступил на службу к Петру Великому. Так в России стало одним дворянским родом больше.
* * *

Маленький, тесно заставленный кабинет в петербургской квартире. Большую его часть занимает старый-старый концертный рояль; на стенах портреты – много лиц, некоторые из них я узнаю. Одно встречается чаще других.
– Это мой отец – композитор Николай Михайлович Стрельников, урождённый Мензенкампф, – произносит хозяин, добродушный старик с крупными чертами лица. Ему девяносто один год. Улыбается растерянно:
– Прекрасно помню, что со мною было давно: детство, родители, война... И забываю вчерашний день.
Мне показалось, не только вчерашний. Воспоминания Бориса Николаевича во время нашего разговора так и не перешли какой-то невидимой черты, проведённой, кажется, в середине пятидесятых. Позже я пытался разузнать, что с ним происходило в те шесть десятилетий, которые Стрельников обошёл молчанием. Оказалось, он известный искусствовед, писал статьи и книги, вёл поэтический клуб в ленинградском ДК железнодорожников. Уверен, что с ним происходило в эти годы масса интересного. Но...
– Я ничем не примечателен, – произносит Борис Николаевич. – Единственное, что меня выделяет, – мои родители. Когда мне исполнилось девяносто, прочёл у князя Мещерского – внука Карамзина и друга Достоевского – такие слова: «Самое ценное счастье в жизни – это иметь хороших родителей. Это счастье дал мне Бог». С этой очень важной фразы начинаются его трёхтомные воспоминания. И моя жена, и все мои друзья тоже имели хороших родителей. Это были люди, которые дали не только жизнь, но нравственную, идейную основу самой жизни.
«Я хотел бы стать священником»
|
– Мой отец, – продолжает Борис Николаевич, – ещё в юности начал писать музыку, но дед пожелал, чтобы он закончил Императорское училище правоведения.
Правда, это было самое музыкальное учебное заведение столицы, не считая консерватории. Училище в своё время закончили Пётр Ильич Чайковский и Александр Серов. Отец вышел из него с золотой медалью. Во время выпуска, как лучший ученик, он был представлен Императору Николаю Александровичу. Эту историю поведал мне соученик отца – член-корреспондент Академии наук Михаил Васильевич Доброклонский. Так вот, Царь спросил, где молодой Мензенкампф намерен служить. Последовал неожиданный ответ:
– Я хотел бы стать священником.
– Стране нужны талантливые, честные и умные юристы, – возразил Государь. – Обещайте мне, что вы будете таким.
– Обещаю! – сказал отец.
После этого он много лет защищал людей, получивших производственную травму, это называлось тогда «увечным правом», служил секретарём гражданского департамента Судебной палаты, дружил с легендарным нашим правоведом профессором Анатолием Фёдоровичем Кони. Как юрист он вполне состоялся, но одновременно продолжал заниматься музыкой, даже закончил консерваторию. Этим его музыкальное образование не ограничилось. Среди учителей отца были Сергей Рахманинов, приходившийся троюродным братом моему деду, и генерал Цезарь Кюи. Цезарь Антонович считался одним из лучших наших знатоков турецких крепостей, во время русско-турецкой войны строил наши укрепления близ Константинополя, но вместе с тем оставил после себя массу музыкальных произведений. На подаренной отцу фотографии генерал написал: «Милый Николай Михайлович, оберегайте ваше несомненное дарование и ваш врождённый вкус от модернистических излишеств. Таков завет вашего старого друга и товарища по искусству Цезаря Кюи».
Это напутствие было, судя по всему, воспринято весьма серьёзно. В послереволюционное время отцу немало перепало за нежелание следовать каким-то авангардистским, революционным веяниям в музыке. Вместе с Дунаевским они стали основателями советской оперетты, но при этом между ними было мало сходства.
Отец стремился к мелодичности. Не знаю, писал ли он в советское время церковную музыку, но сохранившаяся у меня тетрадь с его православными песнопениями датирована 1925 годом. Вот несколько названий оттуда: «Слава единородный Сыне», «Поклонимся», «Трисвятое», «Прокимен Воскресения», «Херувимская».
Откуда всё это шло?
– Его мать, Анна Петровна Стрельникова, была прекрасной пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Именно от неё мне досталась фамилия – очевидно, отец принял её во время Первой мировой. Все связи с Германией были утрачены лет задолго до этого, к двадцатому веку наш род стал чисто русским.
Мой дед, статский советник Михаил Богданович Мензенкампф, служил председателем суда Петергофского уезда, в который входил Кронштадт. Не знаю подробностей, но дед был близок с протоиереем Иоанном Сергиевым...
– С отцом Иоанном Кронштадтским?
– Да-да. У меня хранится епитрахиль батюшки, подаренная нашей семье, надеюсь передать её в Кронштадтский монастырь. Когда дед умер, отец Иоанн лично его отпевал. Думаю, именно это знакомство повлияло на желание отца посвятить себя Церкви, вот только не сложилось. В пору занятий юридической деятельностью отец сблизился с несколькими большевиками и после революции стал одним из немногих культурных петербуржцев, искренне принявших советскую власть. Не потому что она победила, не потому что была передовой, нет, он принял её справедливые идеи, сохранив при этом веру в Бога. Он не мыслил себя без этого.
Луначарский назначил его заведующим информационно-правовым отделом Наркомпроса. Несколько позже отец стал председателем Особого отделения Петроградского суда. Всё это открывало колоссальные возможности для карьеры. Но отец вдруг раз и навсегда оставляет юридическую практику и уходит заведовать музыкальной частью в Театр юного зрителя.
Мама
|
Моя мама, Надежда Семёновна, была личностью столь же неординарной. Она родилась на станции Залесье, между Вильно и Минском, в крестьянской семье. Закончила трёхклассную школу. Рано потеряла мать, а когда в семью пришла мачеха, бежала от неё в Вильно.
После соединения с Литвой, в сороковом году, я решил съездить туда. Многое было знакомо по рассказам мамы. Например, как она, уехав из деревни, молилась у Остра Брамы. Так именуется католическая часовня, где хранится чудотворный образ Божией Матери Острабрамской, или, как её ещё называют, Вильнюсской Мадонны. Икона греческого письма и привезена была из Византии, поэтому православные, в том числе мама, почитали и почитают её не меньше католиков. Изнутри часовня украшена множеством серебряных изображений сердец, ножек, ручек – частей тела, исцелившихся по молитве к Божией Матери. На крючках российские ордена – Святого Георгия, Святого Владимира и другие, тоже принесённые в дар. Я был поражён, увидев, что все без исключения мужчины, проходя мимо часовни, снимают головные уборы. Как я узнал, это делают даже атеисты, таков древний обычай. Людям было стыдно поступать иначе. Сейчас, когда наше правительство ищет национальную идею, я вспоминаю об Острабрамской часовне. Самое главное – найти путь к совести человека.
Большое впечатление произвёл подвал в соборе Святого Казимира, куда я попал благодаря одной знакомой полячке. Помню, как сторож отворил очень тяжёлую каменную плиту и, держа в руке фонарь, повёл нас вниз. Там по сей день пребывают мумии людей, погибших от чумы. Их сталкивали туда шестами, потом заперли, чтобы не заразили остальных. Запомнилась женщина, прижимающая к себе ребёнка. У него был раскрыт рот. Не знаю, почему их потом не похоронили.
Из Вильно мама перебралась в Петербург. В столице попала в услужение к жене изобретателя радио Александра Семёновича Попова – Раисе Алексеевне. Очень интересная личность: вела международную переписку мужа; будучи врачом, одной из первых в России начала применять на практике рентгеновский аппарат, сконструированный Поповым. Помимо всего прочего, Раиса Алексеевна была семейным доктором Мензенкампфов и представила им мою маму в самых лестных выражениях.
Мама помогала ей в военно-медицинской академии, став медицинской сестрой. Схватывала всё на лету, с ней любили оперировать молодые хирурги. Во время Первой мировой работала во фронтовых госпиталях. Она была необычайной доброты человеком, что очень помогало маме в жизни. Контакт с людьми у неё устанавливался мгновенно, так что с рынка она, помню, всегда возвращалась с очень удачными покупками – торговцы таяли перед её обаянием. «Как это у тебя получается?» – спросил я её однажды. «Ох, сынок, мне так много приходилось иметь дело с ранеными солдатами», – ответила она.
Когда в Петрограде после революции начался голод, Зиновьев запретил доставлять продукты в город частным путём, эта безумная акция называлась «Борьба с мешочниками». Но мама с помощью выздоравливающих красноармейцев и воинского документа, подписанного Будённым, минуя все заслоны, привозила еду с хутора, где жила её сестра. Это спасало не только нашу семью, мама распределяла продукты и между друзьями, в основном актёрами и музыкантами.
Слушая рассказы об этом, я твёрдо решил, что моя мама – герой, о чём и сообщил ей. Мама смущённо смеялась. Как медику, ей часто приходилось бывать в командировках, отец был всё время занят в ТЮЗе, так что я часто оставался один и понемножку научился читать. Библиотека у нас была прекрасной, со множеством книг и журналов, а моя любовь к ней всем оказалась на руку.
Арест
– Вы записываете? – уточняет Борис Николаевич. – Я плохо рассказываю. Сегодня не спал, а год назад перенёс микроинсульт. С тех пор не могу писать. Как я уже сказал, мой отец выбрал оперетту, к которой относились в то время иронически. Да и сегодня... Я подготовил диссертацию, посвящённую этой теме, собрал специалистов-музыковедов, почтенных людей, среди них было несколько докторов наук. Они весь вечер говорили об огородах, о посадках. Про оперетту им было неинтересно.
Оперетта отца «Холопка» популярна по сей день, в ней много от русской песни и романса. По её мотивам был даже снят фильм «Крепостная актриса». Вообще, её часто переделывают. Необходимости в этом нет, наоборот, но так на ней можно больше заработать, получить гонорар, став как бы соавтором отца. Всего у него было десять оперетт и две оперы, одна из которых, «Беглец», на мой взгляд, одна из лучших советских опер, хотя многие её осуждали, критики в начале 30-х годов сочли её слишком буржуазной. Буржуазным у нас считался в то время любой, кто писал мелодичную музыку. Чайковский, Пучинни тоже были буржуазны. Но сохранилась забавная эпиграмма остроумного поэта Александра Матвеевича Флитта, опубликованная в «Вечерней газете»:
«Беглец и каторга», хотите ль,
Сюжет с трагическим концом,
Но со спектакля чуткий зритель
Не оказался беглецом.
Совсем напротив, по причине
успехов явных «Беглеца»
Остался зритель до конца
И долго вызывал советского Пучинни.
Слово «советского», правда, вычеркнули. То, что отец писал в стол духовную, церковную музыку, наложило на оперетту отпечаток, и это многие почувствовали.
* * *
Но главным предметом попечений отца – во всяком случае, мне, ребёнку, так казалось – оставался ТЮЗ. Когда я рассказывал о нём товарищам, они тоже загорались и скоро становились горячими поклонниками театра. Мы с замиранием сердца смотрели все его постановки: «Дон-Кихот», «Хижина дяди Тома»... Зрители по-настоящему плакали и по-настоящему смеялись.
Отец вспоминал, какое громадное впечатление произвёл ТЮЗ на Альбана Берга, известного австрийского композитора, приезжавшего в 1927 году в СССР.
Берг, познакомившись с отцом как автором опер и оперетт, попросил сопровождать его в один из дней. «Не могу, – ответил отец, – я занят сегодня в Театре юных зрителей». «Каких зрителей?» – не понял Берг. О том, что может существовать отдельный театр для детей и юношества, он не подозревал. Отправился на спектакль, а по его окончании энергично, стоя, аплодировал и что-то кричал вместе с детьми – было забавно видеть среди них его высокую фигуру.
Потом они отправились с отцом гулять по городу, и Берг сказал: «Вы счастливый человек». Да, перед тем он оставил запись в книге отзывов: «Это изумительное достижение советской власти. У нас ничего подобного не было и нет». К сожалению, книга не сохранилась. Однажды на спектакль, незадолго до ареста и гибели, пришёл видный большевик Пятаков. Кто-то из детей спросил его: «Вы троцкист?» Наверное, об этом писали тогда в газетах. Директор театра испугался, а так как в книге имелся среди других и отзыв Пятакова, отнёс её в НКВД.
* * *
– Мне говорили, что вашего отца тоже арестовывали?
– Отец пробыл в Большом доме после ареста около двух недель, но его спасли. В это время бывшая жена композитора Шапорина – художница Любовь Васильевна, много сил отдававшая театру и очень уважавшая отца, – связалась с мужем. Юрий Александрович в то время ещё не получил три Сталинских премии, но был очень известным человеком. Так совпало, что руководители государства приехали в те дни в Ленинград, и Шапорин обратился к Сталину, сказав, что ему трудно дирижировать, арестован друг – ни в чём не повинный человек, а раз так, то его тоже могут забрать. Сталин ответил: «Не волнуйтесь, мы всё уладим». Шапорину запомнилось, как руководитель НКВД Ягода суетливо говорил: «Как вы сказали? Стрельников? ‘‘Холопка’’? Да, да». Это был 35-й год.
Арестован отец был по доносу, и это отдельная история. Естественно, мы не знали, кто стал виновником ареста, но... Был один композитор в Ленинграде, не стану называть фамилию, – очень обаятельный, живой одессит, весьма услужливый, он много помогал людям, исключительно пробивной человек, мог и ордер на квартиру организовать, и что угодно. Но с музыкой у него ладилось несколько хуже. Однажды он написал оперетту, которая померла после второго представления, зритель не заинтересовался, хотя сюжет был актуальный – там, кажется, высмеивалась Римская Церковь. А у отца всё получалось: театры охотно ставили его «Чёрный амулет», «Холопку» и другие вещи, а это, помимо известности, ещё и деньги. И композитор из Одессы решил, что Стрельников имеет какие-то ходы, ловчит и так далее, в общем, нужно его поставить на место...
Повторяю, мы ничего этого не знали. В 1939-м отца не стало. Прошло несколько лет, когда я, уже после войны, обратился к этому композитору. Попросил помочь нам с мамой вернуть в квартиру телефон, снятый после смерти отца. Композитор согласился и спустя пару дней сказал, что это обойдётся в полторы тысячи рублей, придётся кое-кому дать взятки. Это была солидная сумма, а я в тот момент был студентом, но желание иметь телефон было слишком велико. Деньги собрали. Спустя какое-то время я начал хорошо зарабатывать, читая лекции, и решил обаятельного, добродушного композитора как-то лично отблагодарить. Пригласил его в ресторан. Одессит вдруг разошёлся, начал сыпать анекдотами и забавными историями, ну просто душа-человек, но в какой-то момент хитровато посмотрел на меня, голова его игриво закачалась. «А я знаю настоящую фамилию вашего отца», – произнёс он. «И что же, какая у него была настоящая фамилия?» – спросил я. Композитор ответил смехом и лишь после уговоров торжественно объявил: «Его фамилия была Майндорф!»
Я ахнул, но постарался не показать вида, насколько был потрясён. Дело в том, что я уже слышал однажды эту фамилию. На неё был выписан ордер на арест отца. «Это не моя фамилия, – сказал он чекисту, – я Стрельников, а прежде был Мензенкампфом». Тот позвонил куда-то, объясняя, что данные не сходятся, но ему велели всё равно произвести обыск и арест.
Я так ничего и не сказал улыбчивому композитору из Одессы, единственному человеку в мире, убеждённому в том, что мой отец принадлежал к загадочному, никогда не существовавшему роду Майндорфов. Бог ему судья.
Портрет Великого князя
|
Одна из картин на стене кабинета Бориса Николаевича особенно меня заинтересовала. Это был портрет военного, аристократа, похоже, из рода Романовых, во всяком случае тип лица очень знакомый.
– Это ученик моего отца – Гавриил Константинович Романов, правнук Николая Первого, – откликнулся Борис Николаевич. – Он принадлежал к Императорской семье, правда, Великим князем стал уже в эмиграции. Спасла его жена, балерина Антонина Нестеровская, которую он очень любил. После революции они с супругой какое-то время скрывались в квартире Горького, потом он тяжело заболел, оказался в больнице. Доктор Манухин, имевший выход на Ленина, попросил разрешить князю выехать из России. Тот, кажется, не возражал, но в Петрограде правил Зиновьев, мечтавший Гавриила Константиновича расстрелять. И тогда Антонина Нестеровская как-то смогла дотянуть больного мужа до Финской границы и вывезти из страны на санках.
– Откуда у вас этот портрет?
– Антонина Нестеровская полагала, что Гавриилу Константиновичу следует получить профессию, закончить лицей. Но для этого нужно было подготовить его к экзаменам. Министр двора Фредерикс обратился в Училище правоведения с просьбой прислать репетитора, и совет профессоров решил рекомендовать Мензенкампфа. Кстати, Нестеровская занималась вместе с ним, весьма помогая. У неё были прекрасная память и хороший ум. В результате князь через три месяца смог сдать экзамены и в благодарность подарил моему отцу свой портрет, написанный учеником Репина – модным художником Николаем Петровичем Богдановым-Бельским. Он изобразил князя в форме флигель-адъютанта с погонами, аксельбантами – всё как положено. Но, как видите, всего этого на картине нет.
Дело в том, что 32-м или 33-м году отец попросил маму уничтожить портрет. Он опасался, что кто-то может донести. Эта осторожность оказалась не лишней. Не знаю, что могло произойти, если бы на картину обратили внимание при обыске.
Так вот, мама разломала раму, сунув её в печь, но бросить туда лицо человека, пусть это изображение, оказалось выше её сил. Она вырезала голову вместе с частью погона и спрятала портрет в книге. У отца была, как я уже сказал, большая библиотека, в которой чекисты поленились особо рыться во время обыска.
Так была спасена эта картина. Кстати, Богданов вслед за нею написал и портрет отца, который хранился у моего брата. Перед войной Латвия, где жил Николай Петрович, оказалась в составе СССР. Услышав фамилию Богданова от одного прокурора, узнав, что он жив, я отправился его навестить, чтобы расспросить об отце. Пока не началась война, мы переписывались. Лишь позже узнал, что художник умер во время бомбежки в Берлине, он лежал там в какой-то клинике после операции. Это случилось незадолго до Победы. Великий князь Гавриил Константинович скончался десять лет спустя в Париже.
Неубитый
Я должен был погибнуть на Невской Дубровке, но меня спас покойный отец. Он умер от туберкулёза, и мои лёгкие тоже оказались повреждены этой болезнью.
Призывная комиссия это обнаружила, на второй комиссии меня признали нестроевым, но одна из её членов, кажется, главный врач какой-то больницы, как-то странно на меня смотрела. Мне позже сказали, что это бывшая княгиня Чегодаева и что у неё сын погиб в начале войны. Она не верила, что я болен, и так получилось, что мы часто встречались с нею на Староневском. Я улавливал взгляд, направленный на меня и, оборачиваясь, видел её. Однажды я подошёл и спросил, почему она так ко мне относится; если она считает, что я здоров, я не отказываюсь идти на фронт. Возможно, это моё согласие помогло ей решиться, и вскоре очередная комиссия отправила меня на Невскую Дубровку, плацдарм на занятом немцами берегу Невы. Оттуда не возвращались.
Я готов был к смерти, одного боялся до ужаса – попасть в плен. И ещё не понимал, как можно ударить штыком живого человека. Мы в школе тыкали штыками мешки с соломой, но человек – это другое. «Ничего, – утешали меня ребята, – спирту выпьешь, всё забудешь». Спали мы на голой земле, и мои лёгкие не выдержали: воспаление, а утром – на ту сторону. Младший командир говорит: «Ничего, пройдёт, сейчас получим спирт, и всё будет в порядке». А я не пил и не пью совсем, да и понимаю, что дело плохо. Мне совсем худо. Лейтенант, узнав об этом, хватает меня за горло, кричит: «Сука, я тебя сам убью, если жив останешься». Все на нервах, ведь завтра умирать, я на него не в обиде – на лейтенанта. Потом он понял, что я не вру, и меня отправили в медсанбат. Измерили температуру – оказалось, 39,3.
Потом был туберкулёзный госпиталь, работа шофёром на газогенераторном грузовике – он ездил не на бензине, а на дровах, которые нужно было ворошить, чтобы они горели в чём-то вроде двух самоваров. Впоследствии я начал читать лекции военным по искусству, был замдиректора Зала камерных концертов на Невском. Выжил.
Щука
Самое страшное в блокаду: когда падает человек, а ты не можешь подать ему руку, потому что слишком ослабел и можешь упасть рядом и уже не подняться. Сердце шепчет что-то, это случается лишь тогда, когда происходящее задевает слишком глубоко. Но ты не можешь понять, что оно хочет тебе сказать.
И сейчас вы слышите мой голос, но самого главного в нём – этого шёпота сердца – ни вы, ни никто другой, не переживший блокаду, не сможет разобрать.
Было бы нечестно говорить, что я всегда вёл себя правильно. Блокада обнажает всё – и худшее, и лучшее. С худшим связана такая история. Однажды у нас благодаря тому, что меня кормили военные, образовался «избыток» хлеба, если это можно назвать избытком. Граммов четыреста, которые мы решили обменять на другую еду. Меня отправили на рынок. Я ходил, смотрел. Приценился было к морковке, но вдруг вижу... РЫБА, а именно – щука. Спрашиваю, за сколько готовы отдать. Просят килограмм хлеба. «Нет, – говорю, – у меня всего четыреста граммов». Не соглашаются. Походил по рынку, возвращаюсь, уж очень рыбы хочется. Продавец вдруг уступил. Несу щуку, и каждый останавливается, вздыхает: «Рыба!» Люди забыли, что это такое.
Прихожу домой, ужасно гордый собой. Мама, не прикасаясь к щуке, спрашивает: «Сынок, что же ты купил? Это экспонат». Я щупаю... хвост хрустнул, смотрю – посередине палка. В каком же отчаянии я был, как был озлоблен! Подвёл семью. Приделываю хвост обратно, сообщаю, что теперь мой черёд её продать. Мама категорически против, но я её не слушаю. Выбегаю из квартиры, сестра двоюродная следом, чтобы приглядеть за мной, совершенно обезумевшим.
На рынке люди подходят, один за другим, спрашивают, сколько стоит. Отвечаю: «Четыреста граммов хлеба». Какая-то женщина с девочкой предлагает: «А двести граммов не подойдёт?» Я готов отдать, но сзади удар, сестра глазами показывает: «Этим продавать нельзя». Отказываю. Спустя какое-то время останавливается розовощёкий, сытый военный с такой же дамой. Спрашивает: «Сухой паёк подойдёт?» Соглашаюсь. Быстро с сестрой какими-то дворами и через подъезды уносим ноги.
Но на этом история не закончилась. Спустя месяц или два сестра – ей было четырнадцать – зашла к директору своей школы. Тот возмущается: «Послал уборщицу обменять полкило хлеба (из пайков умерших преподавателей) на какую-нибудь еду. Приносит рыбу. Щуку. Оказывается, экспонат. Вот до чего люди дошли!» «И куда вы её дели?» – спрашивает сестра. «Форточку открыл и выбросил. А какая-то тётка мимо шла, схватила и унесла».
Что было со щукой дальше, не знаю.
Облака
– Я смотрел на облака, которые проплывали над Ленинградом, – вспоминал Борис Николаевич. – Их освещало солнце, они плыли медленно, равнодушно, глядя на то, что делается у людей, – им было всё равно, сыты они или голодны.
У нас был знакомый ортопед, делавший сапоги для папы – у отца были больные ноги. Это был знаменитейший специалист в городе, очень состоятельный человек. Как-то они с женой пришли к нам в гости. Мама угостила их двумя маленькими, с мизинчик, кусочками хлеба, она всех угощала. Они были очень благодарны, даже заплакали, сказав: «Вы можете угощать, а мы нет, один кусочек делим на четверых». Но мама не могла понять, почему они голодают: у этих людей было множество золотых вещей, которые можно было выменять на продукты, и не голодать. Но они всё откладывали их продажу. Жена ортопеда говорила о каких-то подводах и составах, которые вот-вот прибудут в город, сразу после Нового года, и на золотые часы можно будет выменять мешок муки, на цепочку ещё что-то. Они не выжили. Вся семья умерла, ожидая, что вещи можно будет продать дороже.
Нашу семью спасло то, что в воинских частях, где я читал лекции и готовил концерты, меня часто чем-то угощали, встречали меня очень горячо. Недалеко от Староневского проспекта была воинская часть противохимической обороны, где завклубом был мой друг – старший лейтенант Кевасанидзе. С этой частью, где и офицеры, и красноармейцы относились ко мне особенно хорошо, связано несколько историй.
Одна такая. В Луге, куда мы выезжали на лето, в меня влюбилась соседская девушка, полная такая, ужасно себя вела. Проходя мимо нашего дома с другими людьми, она противоестественно хохотала, кричала что-то, и надо мной все смеялись, шутили: «Опять твоя Тамара идёт». Когда началась война, семья этой девушки переехала в Ленинград, заняв одну из опустевших квартир, и однажды Тамара пришла ко мне в гости. Выпили вместе чаю, мама угостила девушку кусочком хлеба. А я как раз пришёл из булочной, положив карточки на полку. После ухода Тамары спохватились – карточек нет. Отправляюсь к ней, звоню. Никто не открывает. Толкаю дверь, она оказалась не заперта. На кухне вижу ноги в ботинках, кто-то лежит. Оказалось, отец Тамары. Он умер, но это скрыли, чтобы получать за него карточки. Я понял, что говорить с ней о чём-либо бесполезно, развернулся и ушёл. Связавшись с Кевасанидзе, рассказал о своей беде. Он набрал каких-то корочек, уж не знаю, где и как, и это нашу семью в тот момент спасло.
Как-то раз выхожу из части, часовой-красноармеец останавливает, суёт хлеб. Отвечаю: «Не надо, меня покормили и с собой дали». «Отдайте кому-нибудь», – просит солдат. Прошёл сто или двести метров, вижу: мальчонка. Останавливаю, он испуганно смотрит. Протягиваю хлеб, он боязливо что-то пытается произнести: «А-а-а». Сую в карманы, предлагаю бежать домой, угостить родных, а он только: «А-а-а, пасиб», не может выговорить «спасибо». И как-то так повелось с тех пор, что рядовые подбегали, совали хлеб, а я потом на улице его отдавал людям. Потому что он был предназначен не для меня.
Одно дело, мне друг отдавал – друг есть друг. А здесь незнакомые бойцы.
Им нельзя было выходить за ворота части, покидали её, только когда выезжали на фронт. Но они знали, что происходит в городе. Иной спросит: «Разрешите, принесу. Подкопилось». И протягивает пять-шесть сухариков. Вы не представляете, как это трогало. Я думаю, что у них, в тех городах и деревнях, откуда они прибыли, тоже были хорошие родители.
«Да» или «нет»
– В какой храм вы ходите? – спрашиваю я у Бориса Николаевича.
– На Волковом кладбище, – рассеянно отвечает он.
– Отец вам снится?
– Да. Но с людьми, которые снятся, мы не разговариваем словами, а обмениваемся мыслями. Вы не замечали?
– Нет, мне редко что-то снится.
– А вот когда приснится, обратите внимание, вспомните меня. Отец обращается ко мне без слов.
– Что он пытается вам сказать?
– Не знаю, никогда об это не думал. Не знаю и того, одобряет или нет то, что я делаю, – всё это без объяснений, просто «да» или «нет». Перед смертью он подозвал меня к себе, это был наш последний разговор. «Я умираю, – начал он, – и я должен тебе сказать...» После этого он говорил мне что-то очень значительное, важное, но я впал в такое состояние, это было такое горе, что я ничего не понимал, и не мог потом вспомнить ни слова. Когда сказал об этом маме, о том, что чувствую себя виноватым и не могу понять, как это произошло, она нашла очень простые слова, чтобы меня утешить: «Ты и без этих слов всё понял. Вы были так близки с отцом, что ты всё понял».
Владимир ГРИГОРЯН