ЧТЕНИЕ
«В дебрях Севера» Автор – Флегонт Арсеньевич Арсеньев (1832-1889 гг.). Родился в Ярославской губернии, сын уездного исправника. В 1857 году он был определен учителем русского языка в Усть-Сысольское уездное училище. С 1882 года работал в должности чиновника по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда, а с 1885 года – в должности почетного мирового судьи. В «Охотничьих рассказах» героями являются реальные люди – о.Петр и матушка-попадья. Это обстоятельство заинтересовало меня, и я решила установить, кто же на самом деле был отец Петр. И вот что я выяснила по архиву Усть-Сысольского духовного правления. В 1887 году в с.Подъельск служил священником Петр Васильевич Распутин, в то время ему было 68 лет. Занимался переводами псалмов на зырянский язык. В 1858 году был поставлен священником во вновь открытом подвижном храме имени святителя Стефана Великопермского в с.Щугор на р.Печоре (место это таежное, отдаленное даже по понятиям самих жителей Коми). В летописи Щугорской церкви о.Петр отмечает: «Ко времени открытия подвижной церкви теперешний щугорский приход был совершенно дикий уголок, жители Печоры – народ неразвитый, робкий, трепещущий даже пред волостным старшиной». В летописи отмечено, что о.Петр умел со своими прихожанами ладить и имел на них большое влияние. В 1861 году в с.Щугор было открыто начальное сельское училище, в котором учительницей работала жена Петра Распутина – Калисса Ивановна, также из священнической семьи. Собственно, о ней в названии рассказа – «Попадья-охотница» – и говорится. В 1880 году Петр Распутин, прослужив 22 года в щугорском приходе, был переведен священником в с.Подъельск. К 1883 году относится описываемая встреча Ф.А.Арсеньева с Петром Распутиным. АннаМалыхина Попадья-охотница
– Голубчик вы мой, Ф.А., двадцать пять лет не виделись, опять Господь Бог привел!.. Состарились же вы, состарились! – Здравствуйте, отец Петр, сердечно рад с вами видеться! Как не состариться: двадцать пять лет, не двадцать пять недель; да и вас изрядно попригнуло. Отца Петра я знал в лучшую пору его жизни. Это был чернобородый, живой священник, с энергичными, блестящими глазами, со стремлением к неустанной деятельности на трудовом подвиге. Он был пастырем подвижной церкви на Печоре, боролся с расколом, мужественно претерпевал разные оскорбления от населения, зараженного ересью какой-то смешанной, неизвестной секты. Теперь это старик, с поседевшими волосами, сгорбившийся и усталый. Отец Петр затащил меня к себе. Потолковали о старине, вспомнили прежние годы, перебрали всех общих знакомых здешнего края и вообще вели беседу, какая обыкновенно бывает в этих случаях, после долгого промежутка времени, прошедшего вдали друг от друга. – А я с Печоры всего два года как сюда перебрался, – повествовал отец Петр, – сжился с тем краем, жалко было расстаться и теперь тоскую, все здесь постылым мне кажется; а родное, дела рук моих, дела моих неусыпных трудов, исполненных с благословения Божия, там оставил, и болит теперь по ним сердце. Там я себе гнездо свил теплое, уютное, на широком приволье, а здесь в чужом доме живу: во всем неустройство и неудобства разные. С 1862 года я службу при подвижной церкви оставил и поселился оседло в селе Щугор священником при местном храме. Домик себе выстроил на берегу Печоры, на возвышенном красивом месте, сам бревна рубил, сам возил их, сам топором работал при стройке. Огород за домом развел, пенья выкорчил, разделал, удобрил: картофель, брюква, редька родились превосходно. А на задах, сейчас за огородом, к лесу, на моей же выгороде, ягоды самородные прекраснейшие произрастали: земляника, поляника, клюква, морошка. Берега Печоры возвышенные, сухие, а двинься сажен сто от берега, в глубь леса, – сейчас тут же и моховое болото. Осушил я его на своей делянке, канавки провел, стоки сделал; оттого, надо полагать, и ягоды у меня крупнее родились. Поселился я немного на отставе от селения. Перед моим домом росли громаднейшие лиственницы; я их разредил, десятка полтора ссек, в тихие зори, утром, глянешь в окошко – глухарь сидит или тетеря на лиственнице. Конечно, по сану твоему стрельба недозволительна, проливать кровь священно-церковно-служителю не подобает, вот и кричишь: Сенька, бери винтовку – мальчик лет 15-ти служил у меня в работниках, ловок был на стрельбу, бестия, – беги скорее на чердак, пальни его, разбойника, из слухового окошка! Сенька и цапнет. Свалится глухарина с высокой лиственницы – как пестерь, так хлопнется о мерзлую землю, нани гул раздастся. Близко ведь: всего каких-нибудь десять, двенадцать сажен. Раз сижу я у окна, книги церковные проверяю. Тоже осенью было, день тихий такой, серенький, дождичек изредка побрызгивал маленький, точно сквозь сито. Вдруг с великим шумом птицы какие-то прилетели и уселись на лиственницу. Смотрю – рябчики. И как бы вы думали, батюшка мой, ведь много, штук пятнадцать; я экой стаи рябцов никогда и не видывал. В углу – винтовка совсем налаженная, стрелять бы, да по сану моему... – Знаю, батюшка, непозволительно; ну, что же вы? – Опять за Сенькой. Бери, говорю, винтовку, дуй из слухового в рябцов да смотри, говорю, пострел, по нижнему сперва, по самому, говорю, нижнему. И я с ним поднялся на чердак. Вали, вали по нижнему! Скатил одного, сидят рябцы, только стрекочут да головками повертывают; потом зарядил – и другого, до пяти штук уложил, тогда уже снялись остальные и улетели. Польников тоже таким способом великое множество раз стрелять приходилось. – Все же, отец Петр, я думаю, скучненько вам было: безлюдье страшное, глушь!.. – В трудах праведных, голубчик мой, время проводил, некогда о скуке-то думать. А весной, Господи, какое раздолье-то, какая ширь необъятная, бесконечная! Выйдешь это на бережок, сядешь на скамеечку под лиственницу – тишина в воздухе, тишина на воде, благорастворение и благодать неописанные. Взглянешь на север – черное море лесов стелется, уходит широкая серебряная лента, прорезывает эти темные, дремучие леса. На востоке Уральский хребет горбами да зубцами играет на небе; закучатся облачка по-за ним, надвинутся на горы, и не различишь, где кончаются горы, где начинаются облака. Картина!.. Да как ляпнет на эту картину свет солнечный и обольет ее золотом!.. Боже милостивый, каких чудес не совершил Ты в нерукотворном создании Своем! А там, вверху Печоры, смотришь, струйка дыму змейкой ввинчивается в воздух – это пароход бежит: чердынцы всякую провизию доставляют печорским жителям, каждую весну два-три раза, а от них товар промысловый закупают. Тут запас делаешь на целый год и живешь себе, как у Христа за пазухой, – чудесно! – Ну а насчет рыбки как, отец Петр, занимались, конечно? – Нет, к этому я не был пристрастен, этим у меня матушка-попадья орудовала, это ее была охотка. А матушка-попадья в это время подает стаканы с чаем на подносе. Она еще видная, крепкая, бодрая старуха; доброта, приветливость и в лице, и в глазах так и светятся. – Как же, родной мой, охотница была, страшная охотница, – поясняет матушка, – умирала на реке: и невод сама таскала с артельщиками по пояс в воде, и бреднем ловила, и сетями, и ветвями, и ботальной мережой. Рыбы насолим, навялим, икры наготовим. Круглый год не переводился у нас этот харч... – Да вы поговорите-ка с ней хорошенько, – перебил отец Петр, – потолкуйте-ка, какие деяния она совершила: охотой ведь занималась, по путикам ходила. – Ходила, родной, ходила, как же. Путик мой начинался на задах нашего дворища, обход был малый, верст на восемь, не больше. Сама и слопы настораживала, петли и ловушки разные налаживала. В первые годы одна обход делала, да по-раз медведь, пес окаянный, напугал, опасно стало одной-то ходить, так Сеньку с собакой стала брать. – Как это он вас? – Зверя этого много на Печоре. Повадился он ходить по путикам – беда, оберет всю дичь начисто. В глухую осень это было, но еще снег не напал; пошла я в обход. Подхожу к глухариному слопу, смотрю, кто-то ворочается, а под вечерок, да и в чаще, хорошо-то разглядеть не могу, подумала: кто-нибудь из промышленников не шалит ли. Хоть не бывало этого у нас, да как тут... на грех, может, кто и соблазнился. Вот я это тихохонько крадусь, в оплоть подошла к слопу, а он, чтоб ему пусто, окаянному, слоп-то поднял, залез туда до половины да и тащит мошника. Вижу – медведь, да как взвизгну, он как рявкнет! И бежать, и бежать, а я – в другую сторону, не помню, как домой ввалилась! – Прибежала, лица на ней нет, – добавляет отец Петр, – бледная, дрожит вся. Что, говорю, матка, аль испужалась чего, попритчилось, что ли, тебе? Так и так, говорит, медведь. – Будет по путикам ходить, говорю, оставь это рукомесло, работника посылай! Какое!.. на другой день опять в обход пошла. – Не встречали уже больше медведя-то? – Нет, не встречала, должно быть, сильно, дурень, испугался бабы, не приходил больше. – Ну а как же в зимнее время, матушка, по глубокому снегу по путикам-то уж... – Э, что вы говорите, полноте, кто ее удержит. Наденет она мои суконные старые штаны... – Ты, отец Петр, поунялся бы немного, все-то бы не болтал, – возразила матушка. – Правду говорю. Наденет это мои штаны, малицу натянет, шапку-ушанку, пимы на ноги, лыжи да как начнет уписывать, мигом облетит весь обход. Ружейцо иной раз прихватит, бельчонку устрелит, как-то раз лисицу ухайдачила. – Как, матушка, неужели и постреливали? – Врет он, родной мой, слушайте его, пустомелю старого. – Правду говорю, ей-Богу, правду! – Эге, отец Петр, теперь я догадываюсь, кто из слухового-то окошка по дичине стрелял! Матушка, махнувши рукой, вышла из комнаты, а отец Петр, подмигнувши левым глазом, лукаво улыбнулся вслед матушке.
На глав. страницу. Оглавление выпуска.О свт.Стефане.О редакции. Архив.Почта |
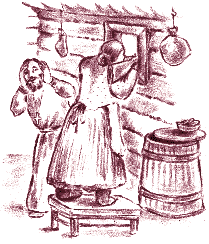 Приехал я в Подъельск, селение на Вычегде, в 96 верстах от Усть-Сысольска. Покончивши с делами в правлении, пошел к знакомому уряднику, навстречу
священник.
Приехал я в Подъельск, селение на Вычегде, в 96 верстах от Усть-Сысольска. Покончивши с делами в правлении, пошел к знакомому уряднику, навстречу
священник.