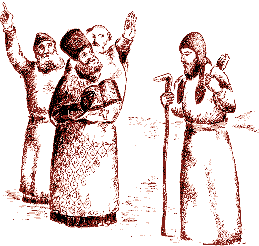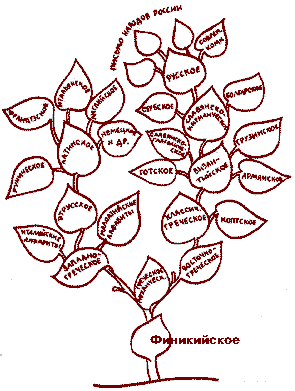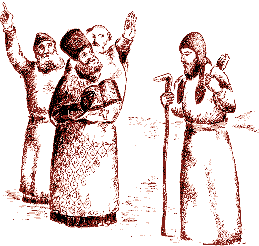
III. РАБОТНИКИ
ДВЕНАДЦАТОГО ЧАСА В ту пору на Руси время исчисляли не от Рождества Христова, а от Сотворения мира. И вот близилась страшная дата – 7000 лет от сотворения мира (приходилась она на 1492 г., если считать по нынешнему). По всем расчетам и пророчествам Божий мир должен был просуществовать семь тысяч лет, после чего людей ждал Страшный Суд. Многие в Москве были так уверены в грядущем Конце Света, что не стали составлять пасхалию (церковный календарь) на период после 1492 года. И вот в это время, за несколько десятков лет до «конца света», в стольный град Руси приезжает некий монах по имени Стефан и рассказывает о своем замысле.
Насколько план Стефана был безумен в глазах современников и как восприняли его «московские сидни», легко представить. Подумать только! Вот-вот все закончится, земля и небо перестанут быть, наступит Конец Света – а он, представьте, ломает голову, изобретает... буквы, совершенно НОВУЮ азбуку для каких-то неведомых зырян-язычников! Вот-вот будет второе пришествие Христа, а он дерзает яко апостол идти с проповедью в Пермские леса! Да откуда взялся этот монах-чернец, какого он рода, какого звания? И в своем ли он уме?!
В Москве многие прохладно приняли пришлого монаха, о чем впоследствии писал Епифаний Премудрый: «Не так ведь москвичи тебя почтут... Ибо знаем мы тех, кто кидал в тебя прозвища, отчего и называли тебя некоторые Храпом, не понимая силы и благодати Божией, бывшей в тебе и через тебя». С древнерусского «храп» («нахрапистый») переводится как «наглец, наглый». Что уж говорить, явно и сам Епифаний не поддерживал сначала этот замысел. В «Житии» он признается, что при жизни Стефана был ему «досадителем». Да и как могло быть иначе? Епифаний Премудрый – искусник в «плетении словес», большой знаток священного церковно-славянского языка – мог ли он представить, чтобы боговдохновенную Библию кто-то дерзнул перевести на варварский язык да к тому же еще варварскими буквами?
Даже сейчас, по прошествии шести веков, стефановская азбука удивляет своей какой-то «диковатостью». Взглянем на древо европейской письменности. Где, в каких ветвях могли бы поместиться эти 26 стефановских буквы?
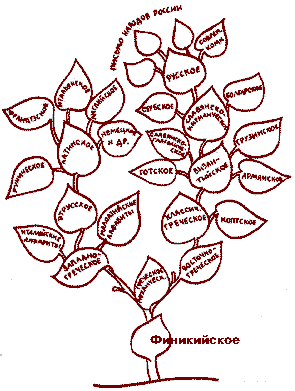
Интересно, что из всех указнных здесь шрифтов схожа со стефановскими буквами только древнефиникийская азбука – та, из которой все эти шрифты и выросли. Сравните финикийские буквы

и стефановские. Поразительно, как совпадают стефановские «Д», «Л» и «Р» с буквами древнейшей азбуки (на рисунке помечены стрелками). А ведь в то время Стефан не мог знать древнефиникийскую грамоту! На этом примере видно, сколь архаична и действительно близка к первобытным рисункам-символам была его письменность.
Впоследствии Епифаний вполне понял замысел Стефана. Необходимость изобретения этой «дикой» азбуки жизнеописатель объясняет так. Зыряне, пишет он, «прежде крещения не имяху у себя грамоты и не разумяху писания и отнюдь не знаху, что есть книга». Следовательно, всякая азбука им непонятна. Стефан же приноровил грамоту к домашнему быту зырян. Ведь он взял за основу для азбуки «пасы» – примитивные символы, которые вырезали на деревьях зырянские охотники, желая что либо сообщить своим сородичам.
Да! Только так, не ломая национального самосознания язычников, со своим языком, со всем лучшим, что у зырян имелось, и можно было ввести этот народ в Христову Церковь, где бы он не чувствовал себя в гостях. Так было и со славянами, которым свв. Кирилл и Мефодий придумали собственную письменность. Такой же доброй участи желал св.Стефан и зырянам. И жизнеописатель справедливо замечает: «Там Кирилл, здесь Стефан, – оба они были люди добрые, мудрые и равные в рассуждении... И Бога ради оба потрудились: один ради спасения славян, а другой пермян. Как два светлых светила они просветили народы».
Как ни странно, азбука эта впоследствии показала свою жизнестойкость. Она получила применение не только у зырян, но использовалась среди московских писцов в качестве тайнописи вплоть до XVII века. Стефановскими буквами писали в зырянских монастырях даже в XVIII веке и могли бы дольше сохранить стефановское наследие, если бы не просвещенщеский дух того времени, когда на Руси боролись со всем «отсталым», не европейским.
Но вернемся в XIV век. Как ни дерзок был замысел Стефана, в Москве нашлись-таки у него сторонники. Местоблюститель Патриаршего престола епископ Герасим посвятил молодого инока во иеромонаха и благословил на проповедь среди зырян. При этом старец напутствовал его своими наставлениями, а также снабдил его св. миром, антиминсами и другими церковными предметами. Великий князь Дмитрий Донской одобрил предстоящий «поход», а чтобы не было никаких препятствий Пермскому апостолу, дал ему охранную грамоту с великокняжеской печатью. Все это происходило около 1379 года, – примерно, как уже говорили, за 12 лет до «конца света». И вот Стефан отправился. В края неведомые...
Что его ждало впереди? Он, конечно, ведал о своем предшественнике – монахе Кукше – который некогда проповедовал зырянам и принял от них смерть. И был готов ко всему. Не случайно же миссионер носил имя первого христианского мученика – архидиакона Стефана, побитого камнями. (см. на карте IV) 
|